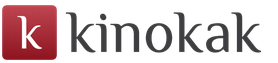Мысли: монахиня кассия (сенина). о практике многодневных постов в православной церкви
Монахиня Касси
я (Татьяна Анатольевна Сенина) родилась в 1972 г., живет в Санкт-Петербурге, закончила французское отделение филологического факультета СПбГУ, в настоящее время является соискателем на философском факультете того же Университета. Приняла монашеский постриг в 2006 г.
Автор более тридцати научных публикаций по византийской истории, культуре и агиографии, церковной истории и богословию, в том числе опубликовала несколько комментированных переводов византийских источников на русский язык, а также переводов гимнографических текстов с древнегреческого на церковнославянский. Является автором семнадцати богослужебных текстов (служб и акафистов в честь православных святых) на церковнославянском языке.
Художественным творчеством занимается с 2003 г.
Статья-рецензия «Кассия»: шедевр под спудом
.
Протоиерей Андрей Дудченко, интернет-издание «Татьянин день».
Загадка Кассии, автора ирмосов канона Великой Субботы, давно волновала меня. В самом деле, кто она: единственная в истории женщина — церковный песнописец, создавшая такие шедевры? Невеста императора, великолепно образованная, с незаурядным поэтическим даром, ставшая монахиней в Константинополе… Личность приоткрылась с выходом романа, или, точнее, саги о Византии под названием «Кассия».
Три тома по 400 страниц убористого текста читались на одном дыхании. За это время персонажи истории ромеев (а именно так именовали себя жители Империи, которую мы с подачи западных историков привыкли называть Византией) стали как будто близкими друзьями. В этом несомненная заслуга автора — монахини Кассии (в миру Татьяны Сениной), которая со скрупулезной точностью и достоверностью оживила ту эпоху ромейской истории, которая до сих пор мне представлялась довольно туманно, и наделила исторических персонажей столь живыми характерами, что, перелистнув последнюю страницу, испытываешь ощущение разлуки…
Прочел роман мон. Кассии Сениной «КАССИЯ». Впечатление неоднозначное. Восхищение, недоумение.
Первые 20 страниц пришлось продираться через лес незнакомых названий и терминов, но потом все эти логофеты, протоспафарии и прочие хартофилаксы стали своими и роман втянул в свою воронку.
Удивила достоверность положительных персонажей, святых. Интуитивно чувствуется что преп. Феодор Студит именно таким и был. В какой-то момент «персонажи» оживают, становятся теми, с кем ты действительно можешь разговаривать.
«Кассия» это совсем не «историч. фентэзи» и не «жития в переложении прозой». Это какой-то агиографический эпос. Местами совершенно шикарные диалоги, герои играют цитатами из Гомера, Марка Аврелия, Песни Песней, Ареопагита, причем происходит это как-то само собой, когда Кассия цитирует Григория Богослова, то половина цитаты это аллюзия Богослова на пророка Исайю, и все эти намеки и аллюзии сталкиваются друг другом, все колеблется полупросвечивающими слоями... просто пир какой-то!
А как подана запутанная проблематика иконоборческих споров. То, что раньше ассоциировалось с желтой бумагой дешевых репринтов с дореволюционных изданий Святых Отцов начинает связываться в осмысленный клубок. Это можно сравнить с преображением невзрачного камешка если его опустить в воду, он начинает играть и переливаться.
Но есть не только это в романе. Меня поразила сцена убийства императора Льва Армянина во время утрени. Еле успели до конца отмыть кровь в алтаре как уже звучат богослужебные благословения убийце и его коронация. Или как еретик Иоанн Грамматик «сделал» в споре исповедника Феофана. Прям страшно читать. Это не спор, а титаномахия какая-то.
В романе есть много забавностей. Чего стоят например сцены из юности св. императрицы Феодоры, как она вместо Златоуста тайком от матери читала под одеялом Сапфо и др «нечестивости». Со знанием дела автор сталкивает лбами студитов и преп. Иоанникия Великого, мимоходом успевая коснуться огромного количества деталек византийского быта, едко отрецезировать хронику Георгия Амартола, рассказать об устройстве трона Императора, качестве образования, составе библиотек, монашеских уставах, античной философии и т п.
Главной удачей я бы назвал потрясающий образ Иоанна Грамматика. Некоторые его изречения я бы сделал своим девизом. От его поступков и слов «по ту сторону добра и зла» возникает ощущения внутреннего полета, какой-то опасной и пленяющей свободы
Дискуссия вокруг вопроса об имяславии и почитании имени Божия, завязавшаяся на Афоне и в России в начале прошлого века и до сих пор не законченная, не только затронула определенные богословские и философские вопросы, но и выявила противостояние двух менталитетов, двух культур — Востока и Запада.
Сторонники имяславия мыслили внутри философии и культуры, сложившихся в Византии под влиянием восточной Православной Церкви — работы главного апологета имяславия иеросхимонаха Антония (Булатовича) полны ссылок на писание Ветхого и Нового Заветов, творения отцов православной Церкви, современных ему православных подвижников (таких как прославленные впоследствии во святых Иоанн Кронштадский и Игнатий Брянчанинов) и литургические произведения (стихиры, каноны, молитвы, используемые в православном богослужении). Старец Иларион, автор книги «На горах Кавказа», которую «имяборцы» подвергли критике, положив начало смуте, тоже опирался на Священное Писание, учение отцов Церкви и собственный молитвенный опыт.
Между тем, в работах противников имяславия довольно мало богословских доводов и ссылок на отцов Церкви, зато «имяборцы» нередко прямо или косвенно использовали доводы, исходившие от западных богословов, писавших в духе протестантизма, или из тех учебников, по которым в то время обучались в духовных академиях, и которые зачастую представляли собой смесь католических и протестантских воззрений, а не учение византийских отцов. Владимир Эрн, критикуя Послание Российского Синода, осудившее имяславие, замечает, что «в своих контраргументах Синод опирается не на святоотеческую мысль, не на мысль святых и подвижников, а на некую философию
, ad hoc придуманную», и руководствовался номинализмом в духе Д. С. Милля, проповедуя протестантское по сути учение о молитве. Как указал о. Георгий Флоровский, главный идейный противник имяславия митрополит Антоний Храповицкий в своих воззрениях был довольно далек от византийских богословия и аскетики, будучи сторонником «гуманистического идеала “общественного служения”» — т. е. идеала, сложившегося в западном христианском мире в последние века, — «и при всем своем отталкивании от “западной эрудиции” Антоний остается с ней слишком связан. Отказаться от западных книг
еще не значит освободиться от западного духа
». Флоровский отметил, что в стремлении к «нравственному» истолкованию догматов «всего ближе к Антонию примыкает Сергий Страгородский» — составитель упомянутого синодального Послания, — и в этой «русской школе “нравственного монизма”… не было созерцательного вдохновения, и слишком много психологического самоанализа. Это был несомненный отзвук западных богословских настроений».
Это расхождение между спорящими сторонами прекрасно сознавал и сам о. Антоний (Булатович), высказываясь на этот счет недвусмысленно и довольно резко. «Все они, — пишет он о противниках имяславия, — как видно, еще со школьной скамьи в своем православном умосозерцании и заразились всякой интеллигентщиной и толстовщиной, и всяким другим ядом западного свободомыслия, ибо кто из нынешнего поколения высокообразованного не повредил в юности чистоты своего православия? В нынешний век, когда …даже веру в Божество Иисуса Христа людям образованного класса приходится с великим трудом в себе отстаивать, теперь, конечно, новая имеборческая ересь найдет себе изобильнейшую пищу. Тому, кто и в Божество Христово еле-еле верит, тому где же трепетать, как то подобало бы, пред Именем Божиим, и где ему веровать в Имя Божие, как в Самого Бога». Как можно видеть, о. Антоний не ошибся: до 1917 года и грядущего торжества безбожия оставалось всего несколько лет, и хотя многие из противников имяславцев стали впоследствии новомучениками, однако вполне очевидно, что немалую роль в падении Российской империи и в бедствиях, обрушившихся на Русскую Церковь, сыграли именно сами церковные деятели.
В другой своей работе о. Антоний вопрошает своих противников: «Почему не хотите вы признать евангельские Глаголы Слова за Деятельность Слова и за Божество? …Или, может, вы склонны думать с разными западными мудрецами, берущимися ныне исправлять Евангелие, что Апостолы и Евангелисты по невежеству своему испортили слова Спасителя и записали не Глаголы Божии, а свои личные воспоминания о Спасителе, плоды своей личной памяти? Но тогда мы с вами совершенно не единомысленны, ибо верим в Боговдохновенность слов Евангелия и в истинность их…»
Но с особенной силой о. Антоний обозначает это противостояние Востока и Запада в своей третьей большой работе, которая во многом посвящена опровержению нападок С. Троицкого на имяславие. Автор одного из докладов, на котором основывался Синод, осуждая имяславие, Троицкий издал несколько работ, где пытался доказать, что «имяславцы» повинны в евномианстве и других ересях. Булатович уличает Троицкого в противоречии святым отцам и искажении их мысли, равно как и в намеренном извращении учения «имяславцев», и утверждает, приводя тексты святых отцов Восточной Церкви, что то учение об имени Божием, которое отстаивают «имяславцы», «не только не ересь, но есть основное учение Церкви и верование всех святых, не высокоумных умом, не переучившихся учениями западных богословов, подобно некоторым нынешним богословам, не навыкших все понимать превратно, все пересуживать и перетолковывать…» Он указывает, что Троицкий в своем учении о необязательности использования имен Божиих при молитве, основывается «на словах ученого невера Запада и, в подтверждение своего понимания Имен Божиих как слов текучих и пустых и не необходимых в тайне благочестия, приводит слова Макса Мюллера, который утверждает, что все Имена Божии явились путем измышления человеческого». Троицкий действительно ссылался на «Лекции по науке о языке» М. Мюллера и утверждал, что в древности «люди могли быть глубоко религиозными, не имея никаких имен для обозначения Бога», — мысль, надо заметить, достаточно абсурдная, поскольку неясно, каким образом можно быть религиозным, т.е. иметь понятие о существовании Бога и молиться Ему, никак Его не обозначая. Отец Антоний не преминул это заметить: «Богувне Имени
Его молиться невозможно», и если упразднить все Божественные имена, то «пришлось бы или совсем перестать молиться и священнодействовать, или придумать себе иное “Имя
” — иного бога, или сделаться идолопоклонниками», которые «непосредственно поклоняются своим чувственным идолам».
Отец Антоний понимал, что причина расхождения между ним и его противниками заключалась в различном понимании того, что такое вообще имя Божие: «имяборцы» понимали имя просто как сочетание букв или звуков, отвлеченный символ, изобретенный людьми для обозначения Бога, «имяславцы» же признавали, что в имени Бога есть еще и «внутренняя сторона», и по этому внутреннему содержанию оно и является энергией Божией, а значит, Богом . «Я думаю, что мы не ошибемся, — пишет о. Антоний, — если под словом “Имя Божие” будем понимать Богооткровенную Истину о Боге». Это вполне согласуется с учением св. Дионисия Ареопагита о внешней и внутренней стороне Божественных имен. «Следует обратить внимание на инаковость по отношению к Богу разных Его образов в многовидных явлениях», — пишет он и, пояснив, что символически обозначают в отношении бесплотного Бога такие понятия «ширина» или «глубина», продолжает: «Но чтобы за объяснением инородных образов и форм не позабыть нам самих бестелесных богоименований (τἀ ς ἀ σωμάτους θεωνυμίας), перемежая их чувственными символами, об этом мы скажем в “Символическом богословии”». Таким образом, св. Дионисий отличает инородные Богу образы и формы, т.е. имена-символы, от заключенных в них бестелесных, т.е. нетварных имен-энергий, — именно об этом постоянно писал о. Антоний, и именно этого не желали признавать его противники: «Имяборцы отвергают то, что Божественные Истины в Глаголах и Именах Божиих суть Его сущий истинный Свет, но почитают их только за мысленные номинальные символы».
В. Гагатик совершенно справедливо указал, что главная причина спора об имени Божием заключается в том, что защитники <388> имяславия «исповедовали философский реализм» — реальность встречи с живым Богом при молитве именем Его, — тогда как «имяборцы» «не желают признавать такой реальности, такого мироустройства», для них «неприемлема мысль о том, что человеку дарована возможность реальной встречи с Богом по первому человеческому зову»; «и та, и другая сторона лишь защищала с помощью дискурса свой жизненный выбор» — или «установление реальных отношений человека и Бога» при всецелой обращенности человека к Богу, или всего лишь согласие «выделить для Бога из своей собственной жизни какую-то определенную часть», а в остальном жить «обычной человеческой жизнью», не напрягаясь и не думая о том, что встреча с Богом в имени Его происходит постоянно и вполне реально.
Об этом же писал и о. Антоний, размышляя о том, почему известное решение Московской Синодальной конторы об оправдании «имяславцев» не могло положить конец дискуссиям: «…богословский спор не мог на этом закончится, ибо, если виною спора в значительной степени было взаимное непонимание спорящихся, то, с другой стороны, причиною этого взаимного непонимания было не случайное недоразумение, но некая органическая разница веры тех и других в призывание Имени Господня. Эта же органическая разница веры была причиною и прежде бывших богословских споров: между арианами и православными, между иконоборцами и почитателями икон, и пр. …органическая разница во внутреннем веровании спорящих видится и в данном споре: у одних мы видим преобладание деятельности ума над деятельностью сердца и навык отделять в сердечном своем чувстве призываемое Имя от Призываемого Господа, а у других, наоборот, виден естественный навык к неотделению в сердечном своем чувстве призывания от Призываемого. …У одних видится вера в действенность молитвенных слов и Имени, у других же действенность призываемых Имен и произносимых в молитве слов подвержена сомнению. Одними Имя Божие искони принималось за реальность
, а другими — за номинальность
. У одной стороны — тяготение Востоку, а у другой — к Западу».
Как отметил о. Георгий Флоровский, для истории русского богословия вообще был свойственен «разрыв между богословием и благочестием, между богословской ученостью и молитвенным богомыслием, между богословской школой и церковной жизнью… Богословская наука была принесена в Россию с Запада. Слишком долго она и оставалась в России чужестранкой, даже упорствовала говорить на своем особенном и чужом языке (и не на языке житейском, и не на языке молитв). Она оставалась каким-то инославным включением в церковно-органическую ткань. Богословская наука развивалась в России в искусcтвенной и слишком отчужденной среде, становилась и оставалась школьной наукой. Превращалась в предмет преподавания, переставала быть разысканием истины или исповеданием веры». Спор вокруг имени Божия, начавшийся почти столетие назад, является не просто частным внутрицерковным конфликтом, но корнями уходит гораздо глубже: «имяславцы» и «имяборцы», формально исповедуя одну и ту же православную веру, на деле тяготели к разным образам жизни, к разным культурам, к разным философским дискурсам, по-разному понимали духовную жизнь — и, как следствие, в конечном счете у них обнаружилась и разница в самой вере, что и привело к конфликту. Спор об имяславии в очередной раз показал, что не бывает правильной философии без соответствующей ей аскетики: истинным богословом может быть лишь тот, кто чисто молится, а вовсе не схоластик, хорошо изучивший «богословские науки»: «настоящий философ есть тот, …который не только знает, но и испытывает божественные вещи»; «истинным философом является тот, кто явно и непосредственно в себе самом имеет сверхъестественное соединение с Богом», тогда как «без Духа пишущие, говорящие и намеренные созидать Церковь душевны и не имеют Духа… И говорят они от себя самих, а не Дух Божий … говорит в них».
ПРИМЕЧАНИЯ
См. подробнее: Монахиня КАССИЯ (Т. А.СЕНИНА), Афонское имяславие: степень изученности вопроса и перспективы исследований//
Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии
9.1 (2008) 286–291.
Уже первая его большая работа — иеросхимонах Антоний (БУЛАТОВИЧ), Апология веры во Имя Божие и во Имя Иисус (М., 1913) — сводит вместе высказывания разных православных авторов об имени Божим и «служит своего рода хрестоматией текстов по данной теме» (Епископ Иларион (АЛФЕЕВ), Священная тайна Церкви. Введение в историю и проблематику имяславских споров (СПб., 2002) Т. I. 421).
Мне уже приходилось это отмечать: Т.СЕНИНА, Имяславцы или имябожники? Спор о природе Имени Божия и афонское движение имяславцев 1910–1920-х годов (СПб., 2002) 21; переиздано в: Имяславие. Сборник богословско-публицистических статей, документов и комментариев. Т. II / Общ. ред., сост. и комм. протоиерея К.БОРЩ (М., 2005) 996–1043, см. 1022.
В.ЭРН, Разбор Послания Святейшего Синода об Имени Божием //
Начала. Религиозно-философский журнал.
№ 1–4. Имяславие. Вып. I (1996) 60, 65, 68.
Прот.Г.ФЛОРОВСКИЙ, Пути русского богословия (Париж, 1937) 432–433.
Там же. 438–439.
БУЛАТОВИЧ, Апология… 46–47; ср. переиздание в: Е. С.ПОЛИЩУК (ред.), Имяславие. Антология (М., 2002) 52.
Об этом см., напр.: М. Б.ДАНИЛУШКИН (общ. ред.), История Русской Православной Церкви. От восстановления Патриаршества до наших дней. Т. I: 1917–1970 (СПб., 1997) 22–52; к сожалению, автор ни словом не упомянул об имяславческом споре.
© Сенина Т. А. (монахиня Кассия), 2003–2010, 2015
© Юшманов Б. Ю., оформление, обложка, 2015
* * *
Племя женское сильнее всех, И тому воистину свидетель – Ездра.
Св. Кассия Константинопольская
Часть I. Зёрна
Отелъно не родится ни добро, ни зло, Всегда они в смешенъе.
Еврипид
1. Монах из Филомилия
Кто в надежде на победы домогается всё большего, не рассуждая о шаткости и неизвестности счастья, того это самомнение вовлечет в дела безрассудные.
(Менандр Византиец)
Вечером третьего июня одиннадцатого индикта, когда красноватое солнце уже садилось, уступая место долгожданной прохладе, монах Варсисий, совершив обычное молитвенное правило, покинул келью: его хижина из обмазанного глиной тростника, крытая соломой, была тесна и темновата, и в теплую пору отшельник чаще проводил время снаружи, под хлипким навесом. Оглядев пересохшие грядки с чахлыми листьями свеклы, бобов и сельдерея, Варсисий вздохнул и вышел за покосившийся плетень. Ясный безоблачный закат говорил о том, что жара вряд ли спадет в ближайшие дни, – а значит, дождей не стоило ждать до самых июльских календ. Вдали, на пологом склоне холма, на вершине которого стояла Филомилийская крепость, возле белых домиков копошились земледельцы. Сощурившись, Варсисий поглядел на вившуюся в долине дорогу, ожидая, впрочем, что она будет пуста и безлюдна, – путники редко посещали Филомилий. Однако на дороге виднелось облако пыли; оно быстро приближалось, и вскоре монах различил четырех всадников, которые свернули не в сторону крепости, а на тропу, ведшую к хижине Варсисия. Отшельник на всякий случай ретировался под защиту своей убогой изгороди и скрылся в хижине, но вскоре услышал снаружи знакомый голос:
– Отче, открывай! Свои!
Монах поспешно отворил калитку и поклонился:
– Здравствуй, господин Вардан! Чем обязано наше смирение дорогому гостю?
– Здравствуй, отче! Мне нужно поговорить с тобой… только не на улице, – ответил высокий темноволосый мужчина в богатом одеянии, входя во двор к отшельнику.
Вардан Турк, стратиг восточных фем, недавно назначенный на эту должность императором Никифором, страстно мечтал о царской короне. В народе, особенно среди монахов, любили и почитали свергнутую Никифором императрицу Ирину, а нового василевса не жаловали: бывший логофет геникона уже в начале своего правления показал себя человеком жестким, более всего заботясь о пополнении казны, – упразднил налоговые льготы, в том числе для монастырей, ввел несколько новых пошлин, и, как говорила молва, готовился отяготить граждан и другими поборами, чтобы поскорей умножить государственные средства, растраченные при прежней императрице – как утверждали одни, на благотворительность, как злословили другие, на личные нужды придворных евнухов.
Усиление поборов вызвало в народе недовольство, которым и решил воспользоваться Вардан, тем более что в войсках тоже роптали на императора по причине задержки жалования, и мечта о порфире, поманившая стратига, с каждым днем казалась все более осуществимой. Филомилийский отшельник был давним знакомым Вардана, стратиг по временам обращался к нему за духовными советами, а теперь приехал, чтобы открыть свои намерения и попросить благословения и молитв.
В хижине монах предложил Вардану сесть на крышку сундука, служившего обитателю кельи и сиденьем, и хранилищем для сухарей, бобов и фиников, а сам присел на край покрытого рогожей деревянного ложа. Стратиг заметно нервничал. То и дело переменяя позу, он рассказал о своих замыслах и, склонив голову, просил молитв. Ужас отразился на лице отшельника, и Варсисий, резко встав, сказал, простирая к стратигу худые, почти костлявые руки:
– Господин, не замахивайся на такое дело! Ничего из этого не выйдет, ты потеряешь не только имущество, но и глаза и в несчастьях проведешь остаток дней! Молю тебя, послушай моего совета – отступись! Отступись скорей от твоего намерения и даже не думай о царской власти!
Ответ монаха, слывшего прозорливцем, настолько сильно отличался от чаяний стратига, что Вардан, изменившись в лице, вскочил и выбежал из хижины. Когда он вышел за плетень, двое его спутников, которые, спешившись, ожидали стратига, подвели ему коня.
Третий спутник Турка гарцевал верхом на вороном жеребце тут же неподалеку. Самый высокий и широкоплечий из всех, с густой шевелюрой жестких волос цвета воронова крыла, горбатым носом и черными глазами, он был родом из Армении; густые брови придавали его лицу несколько угрюмое выражение. Впрочем, он действительно был неразговорчив, хотя умел при случае выражаться красиво и изящно – сын патрикия Варды, родственника Турка, он получил неплохое образование. Отвагой в сражениях Лев вполне оправдывал это имя: покинув родину, как только ему исполнилось восемнадцать, он приехал в фему Анатолик, поступил на военную службу и вскоре стяжал славу неустрашимого храбреца. Вардан, получив в управление восточные фемы, сразу включил его в число своих приближенных. Лев уже два года был женат на Феодосии, дочери патрикия Арсавира, и не так давно у них родился сын.
Два других спутника Вардана лишь недавно стали известны местным военачальникам. Один был моложе Льва, звали его Михаил, а из-за врожденного порока речи он получил прозвище Шепелявый. Среднего роста, коренастый, с небольшими темными глазами и волнистыми, но жидковатыми волосами, он был уроженцем Амория. Его мать была дочерью владельца постоялого двора на городской окраине, а отец добывал пропитание земледелием, но по настоянию жены бросил его и стал плотничать. Михаил с детства жил в бедности и, повзрослев, решил во что бы то ни стало выйти в люди. Шепелявый едва умел читать и писать, зато отличался выдающимися познаниями в скотоводстве, научившись им частью от отца, а более всего от своих дядек, отцовских братьев-земледельцев: с ходу указывал, какие из мулов пригодны для перевозок, а какие хороши для седоков и не пугливы, ловко погонял непокорных ослов и мог с одного взгляда сказать, какие из коней сильны и быстры в беге, а какие выносливы в бою; последним умением он и приглянулся Вардану.
Что касается третьего спутника Турка, то светлые волосы, круглое лицо и сероватые глаза выдавали в нем славянское происхождение. Он был старше и Михаила, и Льва, прихрамывал на одну ногу, но был очень крепок телом и силен. Молодость его прошла довольно бурно: устроившись на службу к одному стратигу, он вступил в связь с его женой, а быв уличен, сбежал к арабам и провел там несколько лет, изучив тамошний язык и обычаи. Однако разбогатеть ему не удалось, и, возвратясь в Империю, он добрался до Амория, где в трактире познакомился с Михаилом и решил вместе с ним попытать счастья на военной службе. Звали его Фома.
Когда Варсисий, выбежавший вслед за своим гостем, увидел этих троих, он на несколько мгновений остановился, как вкопанный, с широко раскрытыми глазами, а потом бросился к стратигу со словами:
– Господин Вардан, постой! Мне надо сказать тебе кое-что важное! Прошу тебя, выслушай, Христа ради!
Стратиг возвратился, думая услышать что-то новое и – как знать? – благоприятное для его планов: монах был настолько взбудоражен, что можно было подумать, будто ему внезапно открылось нечто из ряда вон выходящее. Но когда он вновь оказались в келье Варсисия, отшельник, не садясь, повернулся к Вардану и подрагивающим от волнения голосом произнес:
– Молю тебя, господин, оставь свои замыслы! Ты почтен высоким саном, богат, знатен, тебя уважает сам император… Не меняй все это на грядущие беды! Знай, что не ты, а твои слуги, которые ждут тебя там, завладеют престолом, сначала высокий и черный, а за ним – тот, что с отвисшей губой. Третьего тоже ждут провозглашение и славословия, но престола он не получит и погубит свою бедную душу…
– Да что ты несешь?! – вскричал стратиг. – Вот дьявол!
Стремительно развернувшись, он покинул хижину, понося монаха отборной руганью, и вскоре только следы копыт на тропе напоминали отшельнику о необычном посещении. Варсисий долго стоял у калитки, провожая взглядом четырех всадников, и по его впалым щекам текли слезы.
По дороге Вардан, громко и нервно хохоча, рассказал своим спутникам о пророчествах «шельмы-черноризца» насчет них.
– Еще один прорицатель выискался! – по суровому лицу Льва скользнула пренебрежительная усмешка.
– Вот-вот! – подхватил Фома с ухмылкой. – Им же скука смертная, отшельникам этим, сидят целыми днями одни, вот при случае и развлекаются, как могут…
– Да наврал он все, господин Вардан! – воскликнул Михаил. – Ты не волнуйся! Ну, посмотри на меня – какой из меня император?! Этот отец тут, наверное, пьет много с тоски, вот и мерещится всякое! Спьяну, знаете, и мне иногда такое привидится…
Но несмотря на эти издевки, во взглядах, которыми обменялись Михаил с Фомой, проскользнул огонек: они уже во второй раз слышали в свой адрес пророчество о царстве. Год назад, еще до назначения Вардана главнокомандующим на восток Империи, они оба, тогда состоявшие на службе у патрикия Сисиния, стратига фемы Анатолик, однажды были приглашены к нему на ужин, и, что самое странное, стратиг стал пировать наедине с гостями, выгнав всех слуг, а других приглашенных не было. Друзья исподтишка недоуменно переглядывались, но ели с аппетитом. Когда был выпит уже второй кувшин вина, Сисиний с торжественным видом поднялся с места и сказал:
– Вы, конечно, гадаете, что это я вас позвал. А вот, слушайте! Вчера возвращаюсь я в Аморий и заезжаю в трактир по дороге… А там недалеко от села этого живет мой знакомый монах, я его навещаю иногда… советуюсь, знаете, то-се… Мне говорили, он еще и пророчествует, и верно предсказывает, но сам-то я никогда не слышал, а тут… Стою на дворе, гляжу – мой черноризец идет. «О, – говорю, – приветствую, отче!» И что вы думаете? Он ничего не ответил, даже не кивнул, подошел и смотрит на меня так, смотрит… Мне прямо не по себе стало. «Ты чего, – говорю, – отче?» А он вдруг бух на колени! И шепчет: «Не прогневайся, господин, но выслушай меня, грешника! Хоть и стратиг ты, а императоров на службе у себя имеешь!» Я ему: «Ты что, отче?! За такие речи, сам знаешь…» А он: «Истинно, истинно говорю тебе! Михаил амориец и Фома хромой, что у тебя служат, корону носить будут!» – и руки к небу поднял… А потом поклонился и пошел. Совсем будто не в себе был, точно и впрямь Духом охвачен. Хорошо, разговора никто не слыхал… Так что, выходит, друзья мои, я сейчас пирую с будущими императорами! Ну, за судьбу!
Ошарашенные Михаил и Фома подняли кубки. Не шутка ли всё это?.. Но даже если и так, попировать они всегда не прочь! Ешь, пока дают, а там видно будет… Вино лилось рекой, и захмелевший стратиг, посмеиваясь, поднимал тосты «за будущих государей». Фома пил молча, улыбаясь и как будто не пьянея; Михаила, напротив, совершенно развезло, и он уже собрался запеть еврейскую песню – одну из тех, что ему частенько приходилось слышать в детстве в бедняцких кварталах Амория, – когда Сисиний пригласил в залу своих дочерей Агнию и Феклу и объявил их и своих сотрапезников женихами и невестами. Все четверо лишились дара речи. Фома сидел, как деревянный, с Михаила тотчас слетел весь хмель; оба растерянно взирали на нежданных невест. А девушки, то краснея, то бледнея, искоса взглядывали то на свалившихся на их головы женихов, то на отца, гадая, не шутка ли это не в меру развеселившегося родителя, который на днях рассуждал о том, как выдать дочерей замуж повыгоднее, а теперь задумал породниться с простыми стратиотами, – да еще один хромой, а другой косноязычный… Но Сисиний не шутил, и когда прошло первое удивление, Михаил, повнимательнее взглянув на предложенную ему в невесты Феклу, обнаружил, что она замечательно хороша собой, и поднявшись, торжественно заявил:
– Господин Сисиний! Думаю, сегодня Сам Бог говорит через тебя, а можно ли противиться Богу! – и они с Фомой согласились на внезапное предложение.
Тут же были позваны остальные домашние, и застолье превратилось в пир по поводу помолвки, затянувшись глубоко за полночь. Правда, невесты хранили гробовое молчание и никакой радости не выказали, но Сисиний всегда был в семье полновластным господином, все его трепетали, от супруги, теперь уже покойной, до слуг, и какое-либо непослушание представлялось немыслимым…
– Если черноризец и наврал, так это нас не касается, – тихо сказал Михаил Фоме, когда они уже под утро уходили от стратига. – Дурак или не дурак Сисиний, что поверил ему, но мы-то с тобой точно не в проигрыше!
– Угу, – пьяно улыбнулся Фома.
Однако не прошло и трех месяцев после того, как друзья стали зятьями стратига, и судьба обошлась с ними самым вероломным образом. Было перехвачено некое «мятежное» письмо Сисиния к низложенной императрице Ирине, и василевс лишил стратига всех имений и отправил в далекую ссылку. Потеряв сразу и тестя, и покровителя – Сисиний умер в изгнании спустя пять месяцев, – Михаил и Фома с супругами уже приготовились к бедности и скитаниям, но тут им опять повезло: они попались на глаза Вардану, который, затевая мятеж, собирал вокруг себя всех так или иначе обиженных императором. И вот, сейчас пророчество подтверждалось, хотя в несколько иной версии, не слишком благоприятной для Фомы. Зато Михаил сильно задумался…
Между тем, Вардан, вдоволь насмеявшись над «обезьяной в рясе», махнул рукой на предсказание. Мечта о пурпуре уже настолько завладела стратигом, что расстаться с ней было трудно, а пророчество монаха казалось совершенной нелепостью. «Ну, положим, представить льва на троне еще можно, – думал Вардан. – Но император шепелявый и полуграмотный… что за чушь! А я, дурак, еще считал этого враля Божиим человеком!»
На следующий день стратиг принялся собирать против императора Никифора большое войско – за ним пошли четыре восточные фемы, за исключением отказавшегося повиноваться Арменьяка, – и 19 июля начал восстание.
…Впоследствии Вардану не раз пришлось вспомнить пророчество «шельмы-черноризца». Когда мятежные войска подошли к Хрисополю, император послал к восставшим Иосифа, эконома столичного храма Святой Софии, и он, вступив от имени василевса в переговоры со стратигом, одновременно начал тайно уговаривать приближенных Турка сложить оружие, обещая прощение и всяческие милости. Шепелявый Михаил согласился сразу и убедил Льва последовать его примеру. Фома остался с Варданом, но после отхода значительной части войск провал восстания был очевиден. Мятежный стратиг отошел к Малагинам и вскоре, отчаявшись в успехе, покинул войско, постригся в монахи и удалился на остров Прот. Император в наказание лишил имений многих архонтов, поддержавших бунт, и оставил войско без жалования, зато не поскупился на награды тем, которые добровольно присоединились к нему до окончания мятежа: Лев получил должность начальника федератов и дворец Дагисфей к северо-западу от Ипподрома, а Михаил стал комитом шатра при стратиге Анатолика и владельцем небольшого дворца Кириан в районе Влахерн.
В Амории, главном городе Анатолика, Шепелявый приобрел особняк, и там в конце июня Фекла родила сына. Мальчика крестили на сороковой день, в праздник Рождества Богородицы, причем восприемником его от купели стал Лев, нарочно ради этого приехав в гости к другу. Михаил дал сыну имя Фео?фил – в память собственного отца, уже умершего.
Время шло, император Никифор, хотя постоянно опасался заговоров, всё же довольно прочно утвердился на престоле; казалось, ничто не предвещало смены власти, и слова монаха из Филомилия представлялись нелепой фантазией. Лев уже и думать о них забыл, тем более что не знал о той части пророчества Варсисия, которая касалась Вардана и сбылась спустя несколько месяцев после мятежа: несчастный Турк, несмотря на обещание василевса не карать его и позволить мирно жить в монастыре, был ослеплен по приказу Никифора. Михаил, однако, запомнил слова прорицателя. Тогда, знойным июньским вечером, стоя у подгнившего частокола, он успел рассмотреть монаха, прорекшего, как оказалось, ему царство: Варсисий отнюдь не походил на «шельму», и чем чаще Михаил размышлял о пророчестве, тем больше крепло в нем убеждение, что слова отшельника непременно сбудутся…
2. Брат и сестра
Глупцам отрадно хвастовство крикливое,
Но мудрому – молчанье и покой души.(Георгий Писида)
8 сентября – в тот самый день, когда Вардан Турк решил сложить оружие и ночью тайно покинул мятежное войско, – Георгий, протоспафарий и член Синклита, сидел у себя дома за обеденным столом, отделанным слоновой костью, и с ожесточением расправлялся с внушительным куском жареной свинины, приправленной индийским перцем и корицей. Двое слуг стояли у него за спиной, готовые исполнить приказания господина, и время от времени многозначительно переглядывались: хозяин был явно не в духе. Георгий принадлежал к числу людей, которые никогда не могут почувствовать себя счастливыми: несмотря на то, что его жизнь была вполне благополучна и устроена, он постоянно находил поводы для гнева или зависти.
Он происходил из семьи обедневшего македонского землевладельца, который был вынужден продать большую часть своих поместий и жил, плохо сводя концы с концами; в довершение бедствий мать семейства умерла, оставив отца с двумя детьми на руках. Георгий был старше своей сестры Марфы на восемь лет и, когда ему пошел шестнадцатый год, с благословения отца отправился искать счастья в Царствующий Город. Константинополь поразил молодого провинциала: огромные площади и широкие центральные улицы, вымощенные мраморными плитами, где рядом с одетыми в шелка сановниками можно было встретить безобразных нищих в отрепьях; роскошные портики и высокие колонны; многочисленные статуи работы знаменитых античных мастеров, свезенные со всей Империи для украшения Нового Рима; поднимающиеся тут и там прекрасные храмы; величественные дворцы с золочеными крышами, облицованные мрамором и украшенные барельефами; особняки богачей, окруженные великолепными садами; шумные рынки, где можно было купить всё, что угодно, от простого ячменного хлеба до одежд из драгоценного шелка и багдадских узорчатых ковров; и, наконец, величественно плывший над Городом купол Святой Софии… Глядя на всё это великолепие, потрясенный юноша думал: «Надо обосноваться здесь во что бы то ни стало!» Теперь ему внушала тоску и ужас одна мысль о том, что в случае неудачи придется вернуться домой, к жизни среди виноградников и ячменных полей, в окружении земледельцев в вечно испачканной землей одежде, с грубыми манерами, часто неспособных связать двух фраз, поскольку их постоянным обществом были овцы, козы и собаки. Немало похождений и злоключений выпало на долю Георгия, однако юный честолюбец добился своего: умевший втираться в доверие к вышестоящим путем искусной лести и разных приемов, которым он Бог весть, у кого научился, экономный до скаредности и расчетливый, через семь лет он был женат на дочери богатого константинопольского купца, имел особняк рядом с форумом Феодосия, носил титул протоспафария и заседал в Синклите. Когда отец написал ему, что Марфу неплохо бы тоже устроить в столице, Георгий немедленно пригласил сестру к себе, собираясь выдать ее замуж так, чтобы этот брак мог упрочить его собственное положение при дворе.
Марфе в то время только что исполнилось пятнадцать. Ее нельзя было назвать красавицей, но было что-то запоминающееся в разрезе ее больших темных глаз и овале смугловатого лица, обрамленного темно-каштановыми волосами. Поселившись в доме брата, она жила почти затворницей, пряла лен, читала Псалтирь и по воскресеньям и праздникам, а иногда чаще ходила в церковь. Георгий обращался с сестрой со снисходительностью старшего, накопившего немалый жизненный опыт, воображая, как устроит ее брак, и как она потом будет до гроба ему благодарна за братскую любовь и заботу…
Но почтенного синклитика постигла неудача: пока он был выбирал подходящую партию для сестры, стараясь не прогадать, Марфа сама позаботилась о себе. Все началось со случайной встречи в воскресенье на выходе из Святой Софии. Народу было так много, что в толкотне Марфу оттеснили от ее служанок; она слегка растерялась и, отойдя в сторону, встала в простенке между дверьми из нартекса в храм, надеясь, что девушки отыщут ее, когда схлынет толпа. Но тут к ней, как назло, привязался оборванец, выклянчивая милостыню. Марфа дала ему обол, и он скрылся в толпе, однако вскоре появился в окружении десятка таких же попрошаек. Они окружили девушку, с жалобным нытьем протягивая к ней грязные руки, а один, видимо, чтобы вызвать побольше сочувствия, распахнул на груди лохмотья и показал ужасную незаживающую язву. Марфе стало дурно. Она беспомощно огляделась вокруг, уже готовая заплакать, и вдруг поймала взгляд выходившего из храма в нартекс высокого молодого человека. Она умоляюще посмотрела на него, а он, тут же оценив ее положение, быстро подошел, сунул в руку каждому попрошайке по мелкой монетке и строго сказал:
– А теперь брысь! И не сметь больше приставать к госпоже!
Оборванцы немедленно исчезли.
– Благодарю тебя, господин! – воскликнула Марфа. – А то я не знала, что и делать…
– Не стоит благодарности, госпожа, – молодой человек слегка поклонился, и девушка отметила, что у него густые вьющиеся волосы золотисто-русого оттенка, очень красивая осанка и изящные манеры.
«Придворный, наверное», – подумала она. А он несмело спросил:
– Но почему ты здесь одна, госпожа?
В монахиня Кассия об исихазме
Византийские исихастские тексты"/ сост. общая и научная редакция А.Г. Дунаева. М., 2012
mon_kassia
: Общее впечатление от этой книги - здесь вам не там.
Вот, например, у буддистов есть сутры, где расписаны методы медитации и визуализации - пусть и не все там понятно, но наверняка есть разные на этот счет толкования всяких гуру. В исихазме на тему медитации мы имеем шиш. Все пишут о том, как хороша умная молитва, но никто не пишет, как ею конкретно заниматься. Потому что "твори молитву с такого-то часа по такой-то" это, сами понимаете, не пояснение. Нил Сорский, потом Игнатий Брянчанинов, а теперь и нынешние отцы, кто поумнее, говорят, что духоносные наставники иссякли и надо учиться по книгам. Но в последнее время я все больше уверяюсь в том, что по книгам ничему научиться невозможно, если нет живой традиции и живых учителей. И эта книга - тому очередное подтверждение.
Во всем этом томе исихастских текстов есть единственный текст собственно про молитву и ее технику - "Метод молитвы и внимания" (автор - то ли Симеон Новый Богослов, то ли кто-то из предпаламитов). Про него я уже , что это малосодержательная и абсолютно неясная инструкция, из которой лично я вынесла когнитивный диссонанс.
Иоанна Карпафского я пропустила, т.к. когда-то уже его читала и помню, что там в основном ободрения монахам, впавшим в уныние, и всяческое мусоленье темы, что одна слезка монаха, пролитая в унынии, дороже сотен добродетелей мирянина. Каждый хвалит свое, известное дело. Возводить эти поучение в аскетический абсолют, вестимо, было бы глупо.
Есть там еще анонимное толкование на Иисусову молитву - сплошь экзегеза.
Трактат некоего Дионисия монаха о том, что нефиг только Иисусову молитву творить, а надо петь божественные гимны - довольно занятная апология православного богослужения, точнее, того, что надо ходить на службы и вникать в их содержание, а не только в келье торчать.
Григорий Палама, трактаты против Акиндина. По-моему, хватило бы и одного. Его я еще прочла, уже после всего остального, но на втором трактате я откровенно заскучала. Все это довольно однообразно. Интересны лишь примечания издателей о том, где Палама смухлевал в цитатах из св. отцов - неполное цитирование, частичное искажение смысла, несуществующие цитаты итп.
Кстати, на месте издателей я бы сделала побольше примечаний. Можно было бы кое-какие аскетические и богословские термины пояснить хоть немного. А так - эта книга абсолютно не для широкого читателя, ее и верующие-то далеко не все поймут, а уж светские люди тем более.
Каллист Ангеликуд - считай, последний византийский мистик. "О божественном единении и созерцательной жизни" и еще один трактат. Производит впечатление неоплатоника . Жить вообще грех, думать не следует ни о чем, кроме Единого, любить не следует ничего, кроме Единого, итп, итд. В общем, первый трактат в итоге меня привел в раздражение: по сути это восторженное описание земли обетованной, которая находится хрен знает где и войти в нее хрен знает как . Второй трактат тоже ничего особо на тему практики не проясняет.
Филофей Коккин, слово к ученику о том, как пребывать в келье. Я впечатлилась , да-с.
А вообще, дочитывая книгу, я подумала: а из чего, собственно, следует, что эти монахи, которых защищал Палама, действительно видели Фаворский свет и эту самую божественную энергию? Только из слов самих этих монахов?)))
А так-то все эти богословские изыскания о сущности и энергии суть чистой воды средневековые диссертации. Кто кого удачнее цитатами из отцов забил, тот и победил.
Никакой практике молитвы научиться по этим книжкам невозможно, как и отличить божественный свет от небожественного, буде даже ты что-то там узришь. А учителей молитве в православии нема, даже и спросить не у кого, что все эти святоотеческие словеса означают. В общем, так мы непросветленными, видно, и помрем)(
Татьяна Сенина
© Сенина Т. А. (монахиня Кассия), 2003–2010, 2015
© Юшманов Б. Ю., оформление, обложка, 2015
* * *Племя женское сильнее всех, И тому воистину свидетель – Ездра.
Св. Кассия Константинопольская
Часть I. Зёрна
Отелъно не родится ни добро, ни зло, Всегда они в смешенъе.
1. Монах из Филомилия
Кто в надежде на победы домогается всё большего, не рассуждая о шаткости и неизвестности счастья, того это самомнение вовлечет в дела безрассудные.
(Менандр Византиец)
Вечером третьего июня одиннадцатого индикта, когда красноватое солнце уже садилось, уступая место долгожданной прохладе, монах Варсисий, совершив обычное молитвенное правило, покинул келью: его хижина из обмазанного глиной тростника, крытая соломой, была тесна и темновата, и в теплую пору отшельник чаще проводил время снаружи, под хлипким навесом. Оглядев пересохшие грядки с чахлыми листьями свеклы, бобов и сельдерея, Варсисий вздохнул и вышел за покосившийся плетень. Ясный безоблачный закат говорил о том, что жара вряд ли спадет в ближайшие дни, – а значит, дождей не стоило ждать до самых июльских календ. Вдали, на пологом склоне холма, на вершине которого стояла Филомилийская крепость, возле белых домиков копошились земледельцы. Сощурившись, Варсисий поглядел на вившуюся в долине дорогу, ожидая, впрочем, что она будет пуста и безлюдна, – путники редко посещали Филомилий. Однако на дороге виднелось облако пыли; оно быстро приближалось, и вскоре монах различил четырех всадников, которые свернули не в сторону крепости, а на тропу, ведшую к хижине Варсисия. Отшельник на всякий случай ретировался под защиту своей убогой изгороди и скрылся в хижине, но вскоре услышал снаружи знакомый голос:
– Отче, открывай! Свои!
Монах поспешно отворил калитку и поклонился:
– Здравствуй, господин Вардан! Чем обязано наше смирение дорогому гостю?
– Здравствуй, отче! Мне нужно поговорить с тобой… только не на улице, – ответил высокий темноволосый мужчина в богатом одеянии, входя во двор к отшельнику.
Вардан Турк, стратиг восточных фем, недавно назначенный на эту должность императором Никифором, страстно мечтал о царской короне. В народе, особенно среди монахов, любили и почитали свергнутую Никифором императрицу Ирину, а нового василевса не жаловали: бывший логофет геникона уже в начале своего правления показал себя человеком жестким, более всего заботясь о пополнении казны, – упразднил налоговые льготы, в том числе для монастырей, ввел несколько новых пошлин, и, как говорила молва, готовился отяготить граждан и другими поборами, чтобы поскорей умножить государственные средства, растраченные при прежней императрице – как утверждали одни, на благотворительность, как злословили другие, на личные нужды придворных евнухов. Усиление поборов вызвало в народе недовольство, которым и решил воспользоваться Вардан, тем более что в войсках тоже роптали на императора по причине задержки жалования, и мечта о порфире, поманившая стратига, с каждым днем казалась все более осуществимой. Филомилийский отшельник был давним знакомым Вардана, стратиг по временам обращался к нему за духовными советами, а теперь приехал, чтобы открыть свои намерения и попросить благословения и молитв.
В хижине монах предложил Вардану сесть на крышку сундука, служившего обитателю кельи и сиденьем, и хранилищем для сухарей, бобов и фиников, а сам присел на край покрытого рогожей деревянного ложа. Стратиг заметно нервничал. То и дело переменяя позу, он рассказал о своих замыслах и, склонив голову, просил молитв. Ужас отразился на лице отшельника, и Варсисий, резко встав, сказал, простирая к стратигу худые, почти костлявые руки:
– Господин, не замахивайся на такое дело! Ничего из этого не выйдет, ты потеряешь не только имущество, но и глаза и в несчастьях проведешь остаток дней! Молю тебя, послушай моего совета – отступись! Отступись скорей от твоего намерения и даже не думай о царской власти!
Ответ монаха, слывшего прозорливцем, настолько сильно отличался от чаяний стратига, что Вардан, изменившись в лице, вскочил и выбежал из хижины. Когда он вышел за плетень, двое его спутников, которые, спешившись, ожидали стратига, подвели ему коня.
Третий спутник Турка гарцевал верхом на вороном жеребце тут же неподалеку. Самый высокий и широкоплечий из всех, с густой шевелюрой жестких волос цвета воронова крыла, горбатым носом и черными глазами, он был родом из Армении; густые брови придавали его лицу несколько угрюмое выражение. Впрочем, он действительно был неразговорчив, хотя умел при случае выражаться красиво и изящно – сын патрикия Варды, родственника Турка, он получил неплохое образование. Отвагой в сражениях Лев вполне оправдывал это имя: покинув родину, как только ему исполнилось восемнадцать, он приехал в фему Анатолик, поступил на военную службу и вскоре стяжал славу неустрашимого храбреца. Вардан, получив в управление восточные фемы, сразу включил его в число своих приближенных. Лев уже два года был женат на Феодосии, дочери патрикия Арсавира, и не так давно у них родился сын.
Два других спутника Вардана лишь недавно стали известны местным военачальникам. Один был моложе Льва, звали его Михаил, а из-за врожденного порока речи он получил прозвище Шепелявый. Среднего роста, коренастый, с небольшими темными глазами и волнистыми, но жидковатыми волосами, он был уроженцем Амория. Его мать была дочерью владельца постоялого двора на городской окраине, а отец добывал пропитание земледелием, но по настоянию жены бросил его и стал плотничать. Михаил с детства жил в бедности и, повзрослев, решил во что бы то ни стало выйти в люди. Шепелявый едва умел читать и писать, зато отличался выдающимися познаниями в скотоводстве, научившись им частью от отца, а более всего от своих дядек, отцовских братьев-земледельцев: с ходу указывал, какие из мулов пригодны для перевозок, а какие хороши для седоков и не пугливы, ловко погонял непокорных ослов и мог с одного взгляда сказать, какие из коней сильны и быстры в беге, а какие выносливы в бою; последним умением он и приглянулся Вардану.
Что касается третьего спутника Турка, то светлые волосы, круглое лицо и сероватые глаза выдавали в нем славянское происхождение. Он был старше и Михаила, и Льва, прихрамывал на одну ногу, но был очень крепок телом и силен. Молодость его прошла довольно бурно: устроившись на службу к одному стратигу, он вступил в связь с его женой, а быв уличен, сбежал к арабам и провел там несколько лет, изучив тамошний язык и обычаи. Однако разбогатеть ему не удалось, и, возвратясь в Империю, он добрался до Амория, где в трактире познакомился с Михаилом и решил вместе с ним попытать счастья на военной службе. Звали его Фома.
Когда Варсисий, выбежавший вслед за своим гостем, увидел этих троих, он на несколько мгновений остановился, как вкопанный, с широко раскрытыми глазами, а потом бросился к стратигу со словами:
– Господин Вардан, постой! Мне надо сказать тебе кое-что важное! Прошу тебя, выслушай, Христа ради!
Стратиг возвратился, думая услышать что-то новое и – как знать? – благоприятное для его планов: монах был настолько взбудоражен, что можно было подумать, будто ему внезапно открылось нечто из ряда вон выходящее. Но когда он вновь оказались в келье Варсисия, отшельник, не садясь, повернулся к Вардану и подрагивающим от волнения голосом произнес:
– Молю тебя, господин, оставь свои замыслы! Ты почтен высоким саном, богат, знатен, тебя уважает сам император… Не меняй все это на грядущие беды! Знай, что не ты, а твои слуги, которые ждут тебя там, завладеют престолом, сначала высокий и черный, а за ним – тот, что с отвисшей губой. Третьего тоже ждут провозглашение и славословия, но престола он не получит и погубит свою бедную душу…
– Да что ты несешь?! – вскричал стратиг. – Вот дьявол!
Стремительно развернувшись, он покинул хижину, понося монаха отборной руганью, и вскоре только следы копыт на тропе напоминали отшельнику о необычном посещении. Варсисий долго стоял у калитки, провожая взглядом четырех всадников, и по его впалым щекам текли слезы.
По дороге Вардан, громко и нервно хохоча, рассказал своим спутникам о пророчествах «шельмы-черноризца» насчет них.
– Еще один прорицатель выискался! – по суровому лицу Льва скользнула пренебрежительная усмешка.
– Вот-вот! – подхватил Фома с ухмылкой. – Им же скука смертная, отшельникам этим, сидят целыми днями одни, вот при случае и развлекаются, как могут…
– Да наврал он все, господин Вардан! – воскликнул Михаил. – Ты не волнуйся! Ну, посмотри на меня – какой из меня император?! Этот отец тут, наверное, пьет много с тоски, вот и мерещится всякое! Спьяну, знаете, и мне иногда такое привидится…